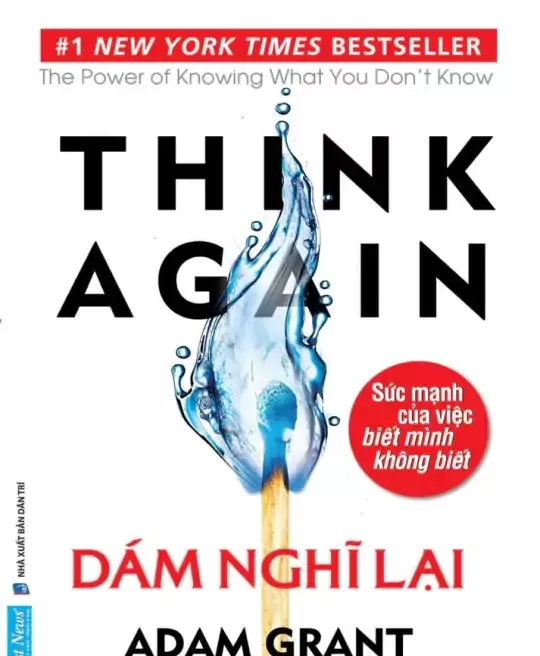Земля на кладбище раскисла. Гроб был тяжелый. Щербаков нес и смотрел себе под ноги,
боясь поскользнуться.
За железными прутьями кладбищенской ограды раскинулась стройка. Там в синем дыму
рычали панелевозы. Длинные жилые корпуса наращивали третий этаж. Кран медленно
опускал квадрат стены с готовым окном. Сквозь запыленное стекло навылет скользило серое
косматое небо. Панель встала на место, и Щербаков подумал, что отныне из этого окна всегда
будет видно кладбище, похороны, кресты и обелиски. Ничего плохого в этом нет, думал он, зря
кладбища стараются отодвигать подальше, на окраины, зря чураются их. Лично он сохранял
бы небольшие кладбища посреди города. Чтобы помнить о бренности жизни. Чтобы хоронили
при всех, чтобы водили школьников для размышлений; как это у Пушкина - младая жизнь
чтобы играла у гробового входа. Смерть надо использовать для улучшения человека. Мысли
эти нравились Щербакову. Когда-нибудь, когда ему не надо будет служить в театре и он не
будет зависеть от заказов, он напишет серию акварелей - разные кладбища, могилы. Надгробья
- заброшенные, ухоженные, пышные, тщеславные... Не смерть я воспеваю, а жизнь, скажет он,
если его станут обвинять... Занятый своими мыслями, он не заметил, что происходило
некоторое замешательство - Нина Гургеновна не могла найти кого-то, кто должен был
заключать церемонию. Из-за непогоды народу убыло, некоторые ушли в автобусы. Щербаков
очнулся, когда Нина Гургеновна взяла его под руку, умоляюще зашептала. Он совершенно не
был готов выступать; в сущности, на похороны он попал случайно, его послали от театра
возложить венок. Он хотел все это объяснить Нине Гургеновне, но в этот момент между ними
втиснулся какой-то пожилой толстяк с фотоаппаратом на животе и попросил у Нины
Гургеновны разрешенья выступить. Толстые очки его сползли на кончик потного носа, он
смотрел с таким волнением и мольбой, что Нина Гургеновна мгновенно насторожилась.
"Челюкин?" - переспросила она, фамилия эта ей ничего не говорила, и Нина Гургеновна
решительно отказала - уже поздно, сейчас, в заключение, от молодых, от учеников слово имеет
Щербаков, и тут же объявила его.
Щербаков испугался, и, как ни странно, при этом его не зажало, наоборот, на него словно
накатило и понесло - про Малинина, которого он знал так мало, хотя мог знать лучше, да вот
упустил, про то, что, кроме художника Малинина, картины которого останутся, был еще
человек Малинин и умер-то как раз человек, которого не сведешь к картинам. А теперь, когда
его не стало, окажется, что человека не знали, никто не знал его...
С чего это он взял, причем с уверенностью, которой ему всегда не хватало.
Впрочем, его не слушали. Жались под зонтики, тоскливо переминались с ноги на ногу.
Смотрели на него безучастно, незряче. Могильщики готовили веревки. И вдруг среди этой
холодной измороси Щербаков ощутил чье-то устремленное к себе внимание. Он не сразу
нашел этот огонек в подслеповатых красных глазах. Там, за стеклами очков, что-то
разгоралось навстречу каждому его слову с каким-то мучительным восторгом. И Щербаков
говорил уже только для этого толстяка, как его - Челюкина? - который стоял, сняв берет, и снег
вместе с дождем падал на его лысину.